Политические прагматики слова
Вышла в свет монография кафедры теории и практики общественных связей РГГУ: Социальные практики как совместность слова. Публикую одну из статей.
От публикатора.
И.Б. Антонова
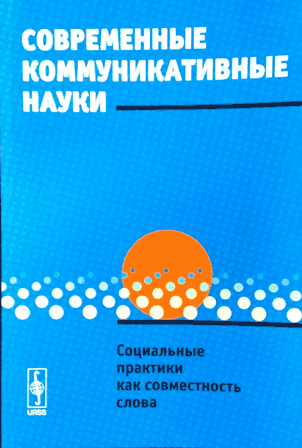 Процессы медиатизации55, происходящие в современном мире, не могли не отразиться на риторике власти в целом и на традиционно риторическом характере института президентства в частности. Значимость трансформаций, претерпеваемых президентским дискурсом под воздействием СМИ, настолько велика, что выступает в качестве одной из наиболее острых тем теоретического и прикладного научного исследования. В настоящей работе мы ограничились рассмотрением лишь вопросов разграничения понятий «риторическое президентство» и «президентская риторика»; риторизации и медиатизации института президентства в условиях медиасреды; анализа риторических характеристик современного дискурса власти (публичность, медийность, корпоративность, персонифицированность); выявления прямой зависимости риторических трансформаций президентского дискурса от воздействия на него массмедиа (сдвиг риторики правления в сторону предвыборной риторики, изменение соотношения убеждающих стратегий в президентском дискурсе — «от логоса к пафосу», преобразование персонифицированного стиля президентской речи в корпоративный стиль).
Процессы медиатизации55, происходящие в современном мире, не могли не отразиться на риторике власти в целом и на традиционно риторическом характере института президентства в частности. Значимость трансформаций, претерпеваемых президентским дискурсом под воздействием СМИ, настолько велика, что выступает в качестве одной из наиболее острых тем теоретического и прикладного научного исследования. В настоящей работе мы ограничились рассмотрением лишь вопросов разграничения понятий «риторическое президентство» и «президентская риторика»; риторизации и медиатизации института президентства в условиях медиасреды; анализа риторических характеристик современного дискурса власти (публичность, медийность, корпоративность, персонифицированность); выявления прямой зависимости риторических трансформаций президентского дискурса от воздействия на него массмедиа (сдвиг риторики правления в сторону предвыборной риторики, изменение соотношения убеждающих стратегий в президентском дискурсе — «от логоса к пафосу», преобразование персонифицированного стиля президентской речи в корпоративный стиль).
В 40-е годы XX в. под воздействием СМИ кардинальному научно-исследовательскому переосмыслению подверглось само понятие «риторическое президентство», а вместе с ним — и понятие «президентская риторика».
55. Медиатизация может быть определена как процесс создания и актуализации средствами массовой информации публичного дискурса. Одним из следствий процесса медиатизации считается преобразование опосредованного СМИ дискурса власти в медиадискурс.
Первое выступает как предмет научного исследования политологов и акцентирует их внимание на самом факте президентской коммуникации, а точнее — на необходимости современного института президентства публично актуализировать свою политическую позицию риторическими средствами: при этом сами риторические средства остаются за скобками политологической науки. Их наряду с другими вер- бальными и невербальными способами выражения изучает прези-дентская риторика, уходя корнями в риторическую традиция со времен Аристотеля.
Перенесение понятий президентской риторики и риторического президентства в различные исследовательские области отнюдь не означает их полной смысловой независимости друг от друга: «примирение» начинается с момента рассмотрения феномена риторического президентства в контексте президентской коммуникации (одной из разновидностей коммуникации политической), которая включает в когнитивное поле своих исследований и риторическое президентство и президентскую риторику:>
Из всех задействованных в схеме понятий лишь президентская коммуникация с трудом поддается строгому определению: в ряде исследований она рассматривается как «специфическая форма политической коммуникации, в которой автором является орган государственной власти (в нашем случае президент, — Авт.) а адресатом — население соответствующей административно- территориальной единицы (в нашем случае население всей страны. — Авт.)»56. При этом автор определения умалчивает о том, к какому именно виду политической коммуникации относится коммуникация президентская. С одной стороны, ее следовало бы отнести к разновидности непосредственного общения, предполагающего прямой контакт президента с аудиторией, находящейся в поле его зрения. Примером такой коммуникации можно считать общение президента с номенклатурой, предъявляемое впоследствии народу средствами массовой информации. И сама президентская коммуникация, и риторика президента в этом случае носят характер инструктажа высокой власти властью верховной: «У нас по-прежнему сильна инструктивно-торжественная риторика”. Ее реальный адресат — номенклатура чиновников, в большинстве речей именно ее инструктируют и одновременно перед ней отчитываются. Но… есть и второй адресат — народ. Однако обращенности к народу в таких речах как раз и нет»57.
Используя «хронологическую» (т.е. ориентированную на исследуемый исторический период развития политической риторики) классификацию, автор цитаты считает современную российскую инструктивную риторику отголоском советского времени, называя такие свойственные ей негативные признаки, как бюрократичность, безадресность и обезличенность. Достаточно сказать, что дискурс власти того времени именуют советским или тоталитарным, отражая в названии либо время его создания, либо политическое содержание той эпохи, не пытаясь при этом выделить индивидуальный стиль того или иного политического лидера. Эту же инструктивно-торжественную риторику, но применительно к нашему времени, Хазагеров тем не менее характеризует как «более или менее целесообразную формулу»58 общения президента с номенклатурой.
56.См. Пономарев Н.Ф. Политические коммуникации и манипуляции. М.: Аспект Пресс, 2007. С. 86.
57. Хазагеров Г.Г. Друг Аркадий, говори красиво // Российская газета: Федеральный выпуск. 2003. 20 нояб. № 3350. С. 2.
58. Хазагеров Г.Г. Партия, власть и риторика. М.: Изд. «Европа», 2006. С. 16.
Но наряду с ней имеет место публичная президентская риторика, обращенная ко всем гражданам страны. В этом случае президентская коммуникация подпадает под разновидность дистанционного массового общения (опосредованного средствами массовой информации), в процессе которого в той или иной мере проявляется индивидуальный стиль политического лидера и те речевые средства, которыми он пользуется для выражения своей позиции. И то и другое — предмет серьезного научного интереса российских исследователей (О.С. Иссерс, А.А. Романов, А.П. Чудинов, В.Г. Костомаров и др.). При этом за скобками их научного анализа остаются такие традиционные (например, для американского института президентства) жанры президентской риторики, как инаугурация, риторика войны и террора, кризисная риторика и т.д. Отсутствие фундаментальных исследований российской президентской риторики с использованием жанрового подхода говорит о меньшей степени не только научной разработанности данной темы, но и риторизации самого института российского президентства.
При этом для обоих институтов традиционно свойственными и значимыми считаются их публичность и медийность. Характеризуя президентскую коммуникацию как публичную, американский политолог Д.М. Райф пишет: «Даже если учитывать лишь временной и количественный факторы, нельзя не согласиться с тем, что современные президенты посвящают больше времени и внимания коммуникации, чем раньше: действительно, каждый следующий после Ф.Д. Рузвельта президент чаще выступал публично, чем предыдущий… при этом граждане Соединенных Штатов считают вполне естественными и уместными выступления президента часто, подолгу и по любым общественно значимым вопросам, вне зависимости от того, затрагивают они темы официальной политики или нет… Американцев совершенно не смущает тот факт, что президент в обращении Федеральному собранию может сделать неожиданное для всех заявление о своем отношении к использованию анаболиков во время игры в бейсбол»59. Аналогичные доводы, связанные с публичностью президентской коммуникации, приводит американский исследователь речевых практик Р.П. Харт: «Ясно, что президенты используют речь не только во время предвыборных кампаний: они все чаще посвящают почти весь свой рабочий день публичному дискурсу, и многие американцы пришли к выводу, что процесс правления возможен лишь тогда, когда он сопровождается речью президента. То, что прежде служило неким естественным водоразделом между предвыборной кампанией и собственно периодом правления, больше не существует. В наше время у предвыборной кампании нет начала и нет конца. Президент постоянно рядом: его словесное “капанье”, медленное и неотступное, — это своего рода пытка, к которой мы все уже давно привыкли. Таким образом, государственное правление невозможно без ораторики, хотя государственная ораторика далеко не всегда означает правление»61.
В подтверждение этой мысли скажем, что именно язык (в нашем случае президентская риторика) является средством государственной политики, поскольку «обязательным условием существования всякой власти является ее выражение в языке…»61. Автор цитаты очерчивает границы изучаемого предмета, понимая, что в политике далеко не все творится языком, но как только политическим инструментом становится язык, именно он должен рассматриваться как средство правления. Кроме того, по мнению А.А. Романова, «язык обладает универсальным свойством перевыражения, в силу которого и неязыковой инструмент может быть представлен или описан языком, поскольку находящееся за пределами языка в политике лежит к нему все же очень близко!»62.
54. Ryfe DM. Presidents in Culture: The Meaning of Presidential Communication. N.Y.: Peter Lang Publishing Inc, 2005. P. 148.
60. Hart R.P. The Sound of Leadership: Presidential Communication in the Modern Age. Chicago, 1957. P. 7.
61.Романов А.А. Политическая лингвистика. М.; Тверь, 2002. С. 4.
62.Там же. С. 6.
Даже если представить, что в президентском правлении есть некое политическое действие, «лежащее к языку очень близко», но при этом не сопровождаемое соответствующим речевым актом (примером такого невербального действия можно считать «молчаливый» уход с президентского поста Р. Никсона), это действие не перестает быть хоть сколько-нибудь риторическим.
С другой стороны, любое публичное выступление президента становится в момент его произнесения политическим действием: только президент, обращаясь к нации с инаугурационной речью, подтверждает тем самым легитимность своей власти; только президент, высказывая возражения по поводу принятия проекта закона, фактически совершает политическое действие, па основании которого Конгресс вынужден пересмотреть проект; только президент, объявляя в стране кризис, способствует тому, что граждане начинают интерпретировать свою жизнь как «жизнь во время кризиса». Идентификация президента с представителем верховной власти, выполняющим конституционные обязанности и использующим властные полномочия, придает его публичной риторике особый статус политическою действия: «Известное выражение, что политика вершится не на словах, а на деле, совершенно справедливо, поскольку слово в политике и есть действие; во всяком случае, без слов политика едва ли возможна»63. Отождествление президентской ораторики с политическим действием, а затем и с самим процессом правления неизменно приводит к чрезмерности президентской коммуникации, а значит, и к девальвации самой президентской риторики. В этой связи в академических кругах до сих пор дискутируется вопрос о том, должны ли президенты сократить количество публичных выступлений, прибегая к ораторике лишь в случае острых социально-политических ситуаций (риторика войны, риторика кризиса и т.д. ),64 или ораторика должна пронизывать жизнь социума вне зависимости от критерия событийности.
63. Кащей Н.А. Риторика и современная политика // Вестник Самарского гос. ун-та, 2004. № 3. С. 4.
64. Г.Г. Почепцов называет президентские обращения подобного рода сигналами стратегического порядка.
Сторонники первой точки зрения — представители школы «вынужденной» риторики — приводят в качестве примера воздействующей (именно по причине редкого использования) президентской риторики «беседы у камина» Ф.Д. Рузвельта, вызванные к жизни тяжелейшим послевоенным кризисом.
Сторонники противоположной точки зрения само течение жизни воспринимают как повод для ее риторизации и считают наиболее публичным, а значит, и наиболее успешным президентом современности Дж. Кеннеди. Его риторический дар был настолько ярким, что он никогда не уклонялся от возможности публичного выступления и сам искал повод для осуществления этой возможности, будучи уверенным, что речь, не имеющая прецедента, — это речь, о которой нельзя судить по прецеденту. Именно Кеннеди инициировал полусимволическое направление «риторика ни о чем», рассматривая публичный президентский дискурс в качестве приоритетного средства президентской коммуникации, а значит, и президентского правления. При этом сторонников данной точки зрения не волнует тот факт, что риторика Кеннеди (как и риторика большинства публичных президентов) носит метафизический характер: чем чаще обращается президент к нации, чем более публичный характер носит его риторика, тем в большей степени он сам воспринимается как носитель некоторого оценочного смысла, посредством которого общество интерпретирует окружающий мир: публичная актуализация Кеннеди своего видения мира как мира, погруженного в кризис, навязывала остальным именно такую интерпретацию политической действительности вне зависимости от того, насколько точно они друг другу соответствовали. Аналогичным образом риторическое конструирование Сталиным и его окружением реальности, населенной врагами и шпионами, навязывало целому народу жизнь в атмосфере подозрительности и страха.
Не менее значимой характеристикой современного института президентства считается его медийность, т.е. свойство быть опосредованным медиакоммуникацией. Сложность постижения сути президентской коммуникации, ее целей и средств напрямую связана именно с медийностью президентского дискурса, чго вызывает к жизни необходимость переосмысления обсуждаемого феномена и его роли в жизни общества.
В президентской коммуникации СМИ являются средством для установления контакта президента с массовой аудиторией. С одной стороны, этот контакт дает президенту право широкого взаимодействия с общественностью, а с другой — предлагает общественности право доступа к риторическому образу президента. И то и другое с большой оговоркой может быть названо политикой демократического толка, поскольку права президента и права аудитории в таком взаимодействии всегда будут ограничены логикой СМИ. В соответствии с этой логикой главную роль в президентской коммуникации играет не президент (и даже не президентская риторика), а его имидж: телегеничность, внешность, умение «преподнести себя» — все то, что изначально считается второстепенным аспектом политики и «отвлекает внимание общественности от важных событий, тем самым превращая организации, которые управляют государством, в нечто банальное»65. Очевидным в этой связи кажется мнение о несостоятельности воздействия СМИ на дискурс власти, ибо в нынешних условиях СМИ и есть эта самая власть: «силой (журналистскою. — Авт.) пера можно разжечь конфликты, сотворить добро, подорвать политическую власть, исказить реальность и создать истину»66. Под воздействием СМИ, считает автор цитаты, происходят более серьезные политические катаклизмы, чем просто преобразования президентского дискурса: разрушаются связи между общественностью и властью, что приводит к высокой степени отстраненности общества от политической жизни. Анализ нового, опосредованного СМИ типа президентской коммуникации порождает еще один подход к оценке ее характера: он связан с тем, что «передатчик (в лице президента. — Авт.) является единственным активным агентом коммуникации… а рецептор (в лице слушателей и зрителей. — Авт.) лишь получает направленные в его адрес обращения и обречен действовать в соответствии с заложенными в них идеями…
65. Луман Н. Самоописания. М.: Логос; Гнозис. 2009. С. 156.
66. Там же. С. 157.
В итоге СМИ получили как бы безграничную власть в моделировании общественного сознания»67. По мнению Ч. Далецкого, СМИ обладают высочайшей степенью воздействия и на речевое поведение общества: «Массовое тиражирование вербальных образцов приводит к их восприятию в качестве эталонных. Происходит опосредованная риторическая адаптация личности к нормативно маркированному социокультурному пространству»68.
«Дистанция», на которую рассчитана риторика американских президентов отличается определенной перспективой: средствами СМИ она «призвана оказывать влияние на систему представлений и оценок всего общества, формируя в его сознании социально-психологические стереотипы»69. Первым шагом на этом пути американские коммуникатологи считают актуализацию через СМИ отдельных понятий, обозначающих позитивные символы прогрессивной политики (солидарность, справедливость, мировое сообщество и т.д.). Часто упоминаемые в одном и том же рядоположении, но в разных языковых контекстах, эти понятия в дальнейшем составляют своеобразный фрейм (термин Г. Филлмора) и тем самым фиксируют точку зрения президента на предмет. Таким образом, в рамках президентской коммуникации «для массового сознания рисуется определенная картинка, задается определенный сценарий, позволяющий интерпретировать (фрейминг) или реинтерпрегировать (рефрейминг) происходящее в новом виде»70.
67. Желтое В.В. Теория власти. М.: Флинта, 2008. С. 491.
68. Далецкий Ч. Риторика: заговори, и я скажу, кто ты. М.: Омега, 2003. С. 395.
69. Наумов В.В. Государство и язык: Формулы власти и безвластия. М.: КомКнига, 2010. С. 141.
70. Почепцов Г.Г. Стратегические коммуникации в политике, бизнесе и государственном управлении. Киев: Альтерпрес, 2008. С. 98.
Процесс формулирования новых понятий и использование их в политических фреймах берет свое начало в самом институте президентства («война с бедностью» — Л. Джонсон; «ось зла» — Р. Рейган; «Карибский кризис» — Дж. Кеннеди). При этом тиражирование и «разыгрывание» предполагаемых фреймов-спектаклей из набора возможных понятий (с целью внедрить их в массовое сознание) осуществляется при непосредственном участии СМИ, используемых в качестве политического и риторического «полигона», на котором государство отрабатывает технику внедрения в социум своих идеологических приоритетов.
Эффект искажения реальности («помещенной» в массмедиа) и нашего отношения к ней фиксирует в своих «Самоописаниях» и Н. Луман: «Того, что возникает в качестве результата длительной деятельности массмедиа… достаточно самого по себе. Поэтому имеет мало смысла задавать вопрос, отражают ли массмедиа наличную реальность искаженно и как они ее искажают; они генерируют описание реальности, конструкцию мира, и это и есть реальность, на которую ориентируется общество»71.
Ориентация американского института президентства на создание и актуализацию фреймов в социуме проходит пока (!) без участия СМИ. При этом некоторые американские коммуникатологи настаивают, пусть на вынужденной, но тем не менее необходимой связи языка политического фрейма с языком СМИ: Медиа следует полностью переобучить. Вы никуда не уходите за пределы фреймов. Сегодня нет нейтральных вопросов или проблем, и этот фундаментальный урок должен быть учтен при медиаосвещении политики»72. В интерпретации Хазагерова топoc (тема) аналогичен фрейму, а топика — фреймингу. Считая политические топосы барометром, с помощью которого можно «гибко реагировать на движение общественных настроений», Хазагеров, вслед за Лакоффом, высказывает мнение об оторванности массмедиа от топосферы массовой аудитории: «Чем более однообразно поле СМИ, тем менее важным материалом становится реальная топика, то есть то, что находится вне этого поля, в зоне не услышанных дискуссий»73.
72. Почепцов Г.Г. Указ. соч. С. 101.
Наряду с вышеизложенными бытует противоположная точка зрения, согласно которой власть СМИ считается преувеличенной. Послания президента, опосредованные СМИ, «проходят через фильтр социальной ткани общества… на индивида оказывают воздействие не столько сами СМИ, сколько группы принадлежности, влияющие на его убеждения, идеи и действия»74. Влияние же самого президентского послания на индивида определяется отношением к нему его социального окружения: «Члены одной и той же социальной группы воспринимают мир на основе схожих схем его интерпретации и имеют в силу этого относительно близкие позиции по большинству вопросов общественной жизни. Таким образом, социальные группы являются своеобразными посредниками между индивидом (в нашем случае президентом. — Авт. ) и СМИ, оказывая на индивидов прямое и достаточно эффективное воздействие»75. Президент, в контексте данного подхода, убеждает в правильности своей позиции или решения отнюдь не потому, что он озвучивает эту позицию или решение через СМИ, а в силу вынужденного конформизма по отношению к идеям и нормам поведения групп принадлежности. Так, с изобретением радио в Соединенных Штатах открылась возможность нового стиля президентского руководства: с одной стороны, более диалогичного и динамичного, с другой — более гибкого (учитывающего ожидания групп принадлежности) и персонифицированного. Примером подобного рода персонификации можно с полным правом считать риторику Ф.Д. Рузвельта в «беседах у камина».
73. Хазагеров Г.Г. Почва для диалога: Политика речи и риторика новой власти. [Электрон, ресурс.] Режим доступа: www.russ.ru/content/download/115811/8114(Х)/…/116-120_hazagerov.pdf. С. 119-120.
74. Желтое В. В. Указ. соч. С. 491.
75. Там же. С. 492.
Его радиообращения к нации создавали впечатление импровизированных, полуофи- циальных диалогов, хотя всё — от первого до последнего слова (включая интонации голоса и смысловые паузы) — было многократно заранее отрепетировано.
Считается, что телевидение повышает «градус» персонификации, сокращая дистанцию между говорящим и аудиторией. Тем не менее в отношении президентской коммуникации это не всегда так: телеэфир (в отличие от радиоэфира) делает президентский дискурс менее обращенным к личности самого президента (less self — reference), менее фамильярным и менее оптимистичным. Несмотря на это, президентская коммуникация все чище предпочитает телекоммуникацию всем остальным видам СМИ, и президентам приходится адаптировать язык и стиль своих обращений, чтобы соответствовать заданной медийной срсде. Это означает, что языковые формы, которые выполняют наиважнейшую функцию, создавая общие с массовой аудиторией смыслы и восприятия, формируются постоянно и последовательно скорее с целью воздействовать на аудиторию, чем с целью передать этой аудитории смысл проводимой президентом политики. При этом само понятие воздействия в связи с приходом телекоммуникаций подверглось кардинальному переосмыслению.
В соответствии с риторической традицией прошлого воздействующим публичный дискурс мог считаться лишь при наличии в нем канонических стратегий убеждения (этоса, пафоса и логоса). С изменением «места проживания» (из немедийного в медийное) президентской коммуникации изменилось и соотношение убеждающих стратегий (в пользу этоса и пафоса), и их смысловое наполнение: «…значительное большинство наших со-временников пытаются отыскать политическое в иллюзорной официальной политике политиков, которые помешаны на победе и выборах»76. Сдвиг в дискурсе власти, произошедший в по-следние десятилетия, — это сдвиг в сторону предвыборной риторики и одновременный отход от риторики правления. По мнению С. Блументаля, «постоянно звучащая предвыборная риторика есть политическая идеология нашего времени. Она сочетает в себе работу над созданием образа и точный стратегический расчет. Под ее воздействием сам процесс правления постепенно превращается в предвыборную кампанию, в инструмент, предназначенный для поддержания популярности президента»77. Опасность подобного рода превращения очевидна и для российских исследователей: «Переусердствовав в популизме, власть может оказаться без риторической поддержки непопулярных мер и будет вынуждена проводить их с помощью обмана или прямого насилия. Власть, ставшая заложницей популизма, движется к выбору между диктатурой и утратой власти»78.
Медиатизация президентской коммуникации изменила и саму модель института президентства, сделав ее не только публичной, но и корпоративной (corporate model of presidency): само понятие дискурса власти означает теперь дискурс коллективный, что предполагает непременное участие в его создании группы высокопрофессиональных специалистов.
Обязательная адаптация публичных обращений президента к многочисленной теле- и радиоаудитории обязывает их создателей к самому тщательному отбору языковых, стилевых и риторических средств. Президент в такой ситуации выступает как риторическая эманация своей администрации, партийного большинства и электората, а президентский дискурс — как своеобразное социопсихологическое соединение политических обстоятельств, политических мотивов, политических позиций и… нескольких спичрайтеров.
Причина и одновременно необходимость участия спичрайтеров в создании президентских речей заложены в самой природе дискурса власти, в его кардинальном отличии от традиционного процесса речепорождения.
77. Цит. по: Paine R. When.Saying is Doing/Politically Speaking: Cross- Cultural Studies of Rhetoric. [Электрон, ресурс.] Режим доступа: www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.an. 13.1 (Ю184.002021.
78. Хазагеров Г.Г. Указ. соч. С. 16-17.
В силу публичности своего статуса президент вовлечен в такую форму коммуникации, которая предполагает наличие в президентском дискурсе соответствующего эстетического компонента, необходимого для создания сильного эмоционального воздействия на аудиторию. Но группа авторов (вне зависимости от уровня их профессионализма) не в состоянии создавать классические образцы политической прозы, поскольку «коллективная работа» над текстом неизменно разрушает его потенциальную стилевую целостность, обезличивает и упрощает язык, лишает риторику власти того «воистину прекрасного стояния в слове», которым славилось торжественное красноречие прошлого.
То, что раньше являлось традиционно необходимой формой церемониальной ораторики, сейчас все чаще используется для нахождения консенсуса в системе взглядов и позиций разновекторных политических сил. Это порождает вероятность создания менее жизнеспособного, менее стабильного и менее значимого консенсуса, чем если бы его поиск вели без СМИ-опосредования.
Отсутствие единого мнения на роль СМИ в развитии президентской коммуникации зачастую приводит к прямо противоположным мнениям относительно того, как влияют средства коммуникации на институт президентства и президентский дискурс. Одни полагают, что постоянное присутствие в современном обществе массмедиа способствует «прозрачности» всех действий президента, способствуя при этом совершенствованию демократии. Другие связывают тенденцию к популизму, политической демагогии и манипулированию общественным сознанием с опосредованной СМИ риторизацией института президентства и президентского дискурса. При этом и те и другие не могут не признать: медиатизация всех политических процессов (включая президентскую коммуникацию) и кардинальные риторические преобразования президентского дискурса — историческая данность, спорить и опровергать которую так же бессмысленно, как бороться с пресловутыми ветряными мельницами. Речь в данном случае может идти лишь о повседневном мониторинге президентской риторики со стороны политологов, коммуникатологов и лингвистов. В этой связи более чем очевидной кажется мысль, высказанная М. Стакей: «Систематическое изучение отношений между риторикой современных президентов и массмедиа, посредством которых осуществляется президентская коммуникация, поможет нам оптимизировать процесс понимания того, в каком состоянии пребывают политический язык и политическая жизнь»79.
79. Stuckey М.Е. The President as lnterpreter-in-Chief. Chatham; NJ.: Chatham House Publishers, Inc, 1991. P. 8.
———————
И.Б. Антонова. Политические прагматики слова // Современные коммуникативные науки: Социальные практики как совместность слова / Отв. ред. А. П. Логунов. — М.: ЛЕНАНД, 2014. — 200 с. C.56-70.
Похожие статьи
 Версия для печати
Версия для печати
 UA-18550858-1
UA-18550858-1